
Артем Коржиманов: «Я хочу, чтобы у науки был положительный имидж…»
С каждым годом в нашем городе становится все больше мероприятий, посвященных образованию и науке. Благодаря ученым, которые умеют говорить о своих исследованиях доступно и интересно, молодежь гораздо больше интересуется развитием наук, чем несколько лет назад.
Сегодня нам удалось поговорить с научным сотрудником Института прикладной физики РАН, кандидатом физико-математических наук Артемом Владимировичем Коржимановым. Он активно занимается популяризацией науки: с 2011 года ведёт блог physh.ru , а с прошлого года еще и телеграм-канал, также его статьи можно увидеть в «N+1» и на сайте «Элементы».
Артем Владимирович читает научно-популярные лекции в рамках различных фестивалей и мероприятий, таких как фестивали «Фенист» и «42», конференция «TEDx» и лекторий «АкадемиУМ». О первых достижениях, важности популяризации науки и уровне науки в России читайте в нашем материале.
Для начала я бы хотела спросить, как вообще у Вас появился интерес к физике?
— Наверное, каждый стремится заниматься тем, что ему нравится, а нравится ему то, наверное, что у него лучше всего получается. Я с детства увлекался математикой: еще моя мама принимала участие во многих математических олимпиадах, и у нас дома было много интересных книг с разными нестандартными задачами. Например, была книга «Математическая шкатулка» с примерами на сообразительность и логику.
Еще до школы это стало моим большим увлечением, а потом в третьем классе я выиграл школьную олимпиаду с довольно большим отрывом и поехал на районный этап, где занял второе место.
Меня тогда пригласили к директору школы, чему я очень удивился. Директор меня похвалил и заплатил пять тысяч рублей, это были первые деньги, которые я заработал. Это было еще до деноминации, 1993 год: для сравнения, я потратил ее на жвачки, кубиками такие, как сейчас «Love is». Они стоили около 100 или 200 рублей, я купил целый кулек, за что получил нагоняй от мамы.
Так я понял, что в математике есть что-то такое. А потом мы переехали, и в новой школе у меня была хорошая учительница по математике, которая посоветовала моей маме перевести меня в сороковую школу. Примерно с этого времени я был нацелен заниматься наукой по жизни. Там дальше дорога прямая: попасть из сороковой школы на радиофизический факультет, а потом в ИПФРАН очень легко.
Иллюстрация к книге Нагибина Ф. Ф., Канина Е. С. «Математическая шкатулка»
А почему именно радиофак, ведь ВШОПФ (Высшая Школа Общей Прикладной Физики) — более близкий к ИПФРАНу факультет?
— В тот момент, когда я попал в сороковую школу, высокую активность проявлял Михаил Иванович Бакунов, профессор и заведующий кафедрой общей физики на радиофаке в настоящий момент. Он организовывал лагерь для одаренных детей по математике, физике, химии и информатике: четыре группы разных возрастов. И вот уже в восьмом классе я попал туда, и с тех пор у нас с ним были очень тесные контакты, а со ВШОПФом такого в то время не было.
Вы проходили двойную аспирантуру в ИПФРАНе и университете Умео в Швеции. Почему выбор пал именно на эту страну?
— Это связано с моим научным руководителем Аркадием Валентиновичем Кимом. Он некоторое время работал в Швеции, поэтому он уже давно поддерживает контакты с учеными оттуда. Он рассказал мне, что там есть молодой профессор, он получил должность в университете Умео и набирал команду. И мы вдвоем с моим коллегой Аркадием Гоносковым сначала съездили туда просто на месяц поработать, а потом на следующий год поступили туда в аспирантуру и одновременно учились здесь.
Какие отличия между аспирантурой в России и Швеции?
— Тут много разных моментов. В Европе и в Америке главное отличие в науке состоит в том, что из-за устройства системы ты очень ограничен во времени, чтобы наработать некий бэкграунд, количество публикаций и связей, прежде чем перед тобой встанет вопрос, как тебе закрепиться в науке. У нас в России по нормальному сценарию ты из университета поступаешь в аспирантуру, после аспирантуры защищаешься и остаешься в институте работать.
В Европе все не так: после окончания аспирантуры ты должен найти себе позицию постдока. Она короткая, обычно год или два, и у тебя есть возможность не более трех раз ее сменить, потом ты становишься уже слишком «старым» для нее. Затем ты должен найти позицию более или менее постоянную, а точнее найти деньги: тебя должны поддержать грантом. Это большая проблема, так как времени совсем немного, а конкуренция большая. И твоя успешность в получении этого гранта будет сильно зависеть от того, где ты был аспирантом и постдоком, потому что, попадая в сильную группу, ты получаешь шанс сделать больше публикаций.
Люди в аспирантуре это уже понимают и поэтому более нацелены на публикационную активность. Кроме того, они очень активно выстраивают связи с разными учеными, лидерами в своей области, чтобы попасть к ним на постдоки.
Это очень важная часть всей аспирантуры: они ездят на конференции, различные школы, стараются активно общаться с профессорами, чтобы быть замеченными и по окончании аспирантуры получить хорошее место. В этом смысле работа аспирантов и особенно постдоков там гораздо более нервная, чем здесь.
Фотографии города Умео, Швеция, сделанные Артемом Владимировичем в 2011 году
Значит ли это, что они более замотивированные?
— Сложно сказать, так как, с другой стороны, там есть очень хорошая возможность уйти в индустрию. То есть многие видят, что шансов закрепиться очень мало, а у них нет достаточных способностей или интереса, и решают после аспирантуры уйти в ту или иную компанию на весьма неплохие деньги.
Поэтому есть такой момент, что лидеры действительно работают более эффективно в плане результатов и публикаций. А те, кто среднего и низкого уровня, наоборот, ставят перед собой единственную цель получить PhD, что не так сложно: минимальные требования к PhD довольно либеральны. Но у этой системы есть один очевидный минус: аспиранты не делают глубоких исследований. Это очень большая редкость, потому что изучение глубокой темы зачастую означает, что у тебя будет мало публикаций. Обычно аспиранты работают с задачами, в результате которых они уверены.
Вы начали заниматься популяризацией науки уже после аспирантуры?
— Ну да, в последний год, в 2009 году.
Как Вы к этому пришли? Как появилось желание рассказывать о физике людям, не связанным с этой областью?
— Ну опять же, мы занимаемся тем, что нам нравится, а нравится заниматься тем, что у нас хорошо получается. Когда я начал писать научные статьи, я обнаружил, что у меня есть определенная способность к написанию складных и понятных текстов. Изначально это были научные статьи, а не научно-популярные.
Но на самом деле разница не столь велика: и там, и там надо изложить то, что ты понимаешь, другим людям, у которых, возможно, другие знания. В обоих случаях важно поставить себя на место читателя и понять степень неизвестности того, что известно тебе, и как эту неизвестность преодолеть или обойти, используя язык и терминологию, которые слушателю знакомы и понятны.
Я пришел к популяризации достаточно спонтанно. Летом 2009 года я листал Википедию, уже зная, что ее пишут сами пользователи, и замечал, что статьи по физике в русскоязычной Википедии значительно хуже, чем в той же англоязычной. Мне было нечем заняться, и я решил внести свой вклад. Первой статьей, которую я написал, была про математика Арнольда.
Мне было немного обидно: русскоязычный вариант статьи уступал английской даже в тех темах, где, казалось бы, мы должны были быть лучше. В частности, про Арнольда была хорошая статья на английском, очень хорошая — на французском (он долгое время жил во Франции), а на русском языке она была просто ужасная. Я в основном просто перевел статью из английской Википедии, тем самым увеличив русскоязычный вариант в два раза. Так все начиналось. У Википедии есть братский сайт Викиновости, я начал писать туда новости из сферы физики, а потом мне стало тесно в этом формате, и я завел себе блог. Сначала я размещал там новости, а потом появились статьи не совсем новостного формата.
Статья на «Википедии», посвященная В.И.Арнольду
Вы читаете лекции для аудиторий разных возрастов. Кому проще всего объяснять материал?
— Студентам, конечно. Потому что студенты совсем недавно окончили школу, при этом они имеют полный курс школьного образования и еще не успели его забыть. Со взрослыми сложно, так как они многое забыли, а с детьми сложно, потому что они еще многого не знают. А студенты, особенно первокурсники, самые — лучшие слушатели, с ними проще всего.
Какие основные правила существуют для того, чтобы читать научно-популярные лекции?
— Они все достаточно общеизвестные. Во-первых, как можно меньше использовать специфическую терминологию, а если это необходимо, то уделить достаточно времени объяснению термина, активно используя образные аналогии и разбавляя околонаучными байками. И, конечно, достаточно жесткий тайминг.
В любой лекции я стараюсь рассказывать на уровне понимания процессов, которые происходят. Например, мы изучаем лазеры, я за лекцию могу рассказать, как работает лазер. Но это достаточно сложная вещь, и я понимаю, что слушателям нужно напрячься, чтобы это понять и осмыслить.
Поэтому важно здесь не перегружать читателей, и если лекция рассчитана на большое время, скажем, минут на 40, то нужно чередовать сложный материал с более легким контентом. И еще использование иллюстраций очень сильно помогает.
Фестиваль «42»
Любой ли ученый может заниматься популяризацией — или он должен обладать какими-то определенными качествами?
— Не любой, наверное. Все люди очень разные: с некоторыми даже по житейским вопросам невозможно пообщаться. Поэтому, конечно, не любой, но их количество гораздо больше, чем можно было бы подумать.
В принципе, любой человек, который может общаться с другим человеком человеческим языком, может заниматься популяризацией. Ведь это и есть общение обычным человеческим языком на какую-то конкретную заданную тему. Вопрос только в том, насколько это трудно, потому что перевести свое некое знание с научного языка на общечеловеческий требует вложения сил и времени.
А почему Вы готовы вкладываться в это дело? Почему это важно для Вас?
— У меня ответ простой. Я занимаюсь этим не потому, что считаю очень важным, а потому что мне это нравится. Я знаю, что есть очень много важных вещей, которыми нужно заниматься, но я этого не делаю, потому что они мне не нравятся.
Почему в принципе популяризация важна? Ну смотрите, для меня самое важное, наверное, что я хочу жить в обществе, где важные общественные решения принимаются, в первую очередь, на основе рационального, научно обоснованного анализа. И чтобы к этому идеалу как-то приблизиться, люди должны быть знакомы с последними достижениями науки, с тем, как вообще устроено научное знание, чем оно лучше, чем другие подходы к объяснению жизни и принятию решений. И для этих целей требуется заниматься популяризацией науки.
Я хочу, чтобы у науки был положительный имидж, это во-первых. А во-вторых, я хочу чтобы люди были информированы о том, что наука может, чего она не может и почему это хорошо.
Какие проекты, фестивали, лектории, в которых Вы участвовали, запомнились больше всего?
— Да нет, я все помню (смеется). Тут выделить сложно. Ну самый первый, конечно. Это научный слэм, который проводил Парк Науки ННГУ. Во-первых, потому что он первый, а во-вторых, я очень много к нему готовился: мы с братом делали специальный видеоряд для моего выступления.
Много сил было вложено в это выступление. В этом году было что-то интересное: я ездил в Москву на фестиваль актуального научного кино «360». Там был фильм про термоядерные реакторы ИТЭР, а после фильма была дискуссия со мной и Анатолием Красильниковым, который является директором ИТЭР в России. Очень интересно было с ним пообщаться.
Как Вы вообще оцениваете ситуацию в российской науке на сегодняшний день?
— Здесь я согласен с оценкой президента Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым. С наукой в России все очень плохо, если говорить в среднем. Конечно, есть какие-то направления, в которых все более или менее благополучно, где уровень соответствует мировому. Но даже там мы не лидеры, а лишь одни из лидеров.
Многие направления у нас вообще отсутствуют или находятся на зачаточном уровне, поэтому не приходится о них серьезно говорить. А другие направления, которые развиваются нормально, не имеют поддержки со стороны индустрии, и наши разработки оказываются невостребованными. Есть проблема с кадрами: люди уходят из науки, уезжают за рубеж, меняют сферу деятельности. Большая проблема в российской науке заключается в ее централизации в Москве, а это жутко дорогое место.
Наука сама по себе не требует больших денег, а из-за этой централизации в Москве очень большое количество средств уходит просто в трубу. Люди, которые работают в столице и получают зарплату московского уровня, могли бы делать с тем же успехом эту же науку где-то в регионах, получая зарплаты в разы меньше и сохраняя прежний уровень жизни. Есть указ Президента о том, что средний уровень зарплаты научного сотрудника к 2018 году должна составлять двойную среднюю по региону.
У нас средняя зарплата по региону порядка 30000, то есть для научного сотрудника эта цифра должна составлять около 60000, чуть поменьше, в Москве средняя зарплата более чем в два раза выше, следовательно, и зарплата научного сотрудника также должна быть выше. И получается, что наш институт достаточно успешно работает, поэтому мы этот план выполняем сами, а какой-нибудь институт в Москве, аналогичный нашему, работает, может быть, и не хуже нас, и зарплату они получают приблизительно такую же. Но в итоге они не выполняют план, и что делает ФАНО? У них есть дополнительный бюджет для выполнения этого закона, и оно не дает нам никаких денег, а все средства сливает в московский институт.
В итоге мы работаем одинаково, но люди там получают гораздо больше. Несправедливо же.
Раз уж Вы упомянули Александра Михайловича, как вы считаете, как его избрание президентом отразится на науке?
— Сложный вопрос: не все зависит от Сергеева, многое будет зависеть от конъюнктуры. Я надеюсь, что положительно. У Александра Михайловича много достоинств. Во-первых, он ратует за науку, то есть это не какой-нибудь функционер, который стремится лишь пригреть себя и свое окружение. Он за то, чтобы развивать науку. Во-вторых, он в хорошем смысле патриот, человек государственный: он за то, чтобы развивать науку во всей России, а не только в тех местах, которые близки ему по духу. В-третьих, он очень активным был и остается, что очень важно, когда речь идет о каких-то организационных моментах. И также он готов на компромиссы. Он умеет договариваться и разумно вести себя в этом плане, где-то уступая, чтобы дело двигалось.
Новостная заметка на сайте Lenta.ru
Возможно, его единственный минус — это малый политический вес до избрания: он был никому не известен в Москве, за исключением группы академиков-физиков, и ему этот вес надо сейчас набирать в общении с власть имущими и академиками. Но я думаю, что он должен справиться. А дальше все будет зависеть от нашего правительства, от президента Российской Федерации в том числе. От того, как будут распределяться финансы и как будут восприниматься предложения, которые тот же Сергеев будет вносить.
Вопрос, также связанный с централизацией. Правильно ли уезжать в Москву получать высшее образование?
— Я не знаю, что есть правильно и что неправильно в этом смысле. У учебы в Москве есть свои плюсы и свои минусы. Плюс заключается в том, что в Москве намного больше возможностей. Если сравнивать с тем же Нижним Новгородом, то здесь спектр задач, которыми ты можешь заниматься, сильно ограничен. У нас есть физика лазеров, вакуумная электроника, а вот ядерной физики нет. А если очень хочется разрабатывать какую-нибудь теорию суперсимметрии, то здесь даже не у кого научиться этому. В этом смысле в Москве есть практически все, что есть в России, там правда нет кое-чего, что есть в мире, поэтому следующий вопрос: «А почему не поехать в MIT?». Там точно есть все что угодно.
Но минус Москвы в том, что там очень много отвлекающих факторов: жизнь очень дорогая, а в науке денег мало относительно других областей. И если я в Нижнем Новгороде ощущаю себя на свою зарплату довольно уверенно, то в Москве бы чувствовал себя угнетенно. И поэтому там после университетов и после защиты в аспирантуре намного более высокий отток людей из науки. То есть они, видя все это, либо уезжают за границу, либо уходят в банки, в IT-компании или еще куда-то, и это вполне понятно. Зачем сидеть на зарплате в 20000, если ты уже сегодня можешь получать 100?
Лекция в МАМИ
В завершение нашей беседы небольшой блиц-опрос. Какую книгу Вы сейчас читаете?
— Книгу Стивена Строгаца «Ритм Вселенной». Это научно-популярная книга об изучении различных циклических процессов вокруг нас. Стивен Строгац — это мировой лидер в области теории колебаний и волн, и это одна из тем, которой активно занимаются в нашем институте. Книга фактически о его исследованиях в разных областях: циркадные ритмы, синхронизация пульсаций светлячков, другие осцилляторы в природе.
Три самых великих ученых, на Ваш взгляд?
— Эйнштейн, Фейнман, ну и пусть будет Ньютон. Люди, которые перевернули науку, Фейнман в меньшей степени, но он просто очень интересная личность.
Самое перспективное направление физики в настоящий момент?
— Смотря как оценивать перспективность. Мне кажется, очень много открытий нас ждет в области физики нейтрино. Открытия всегда совершаются там, где появляется новый инструментарий. У нейтрино есть определенные свойства, которые не укладываются в современные модели, и есть надежда, что с помощью них можно открыть что-то действительно большое, и это очень горячая тема сейчас.
Большое спасибо Артему Владимировичу за такую интересную беседу. Очень надеемся услышать не одну его лекцию на научных фестивалях в наступившем году.
БЕСЕДОВАЛА АННА ТЕНДИТНАЯ










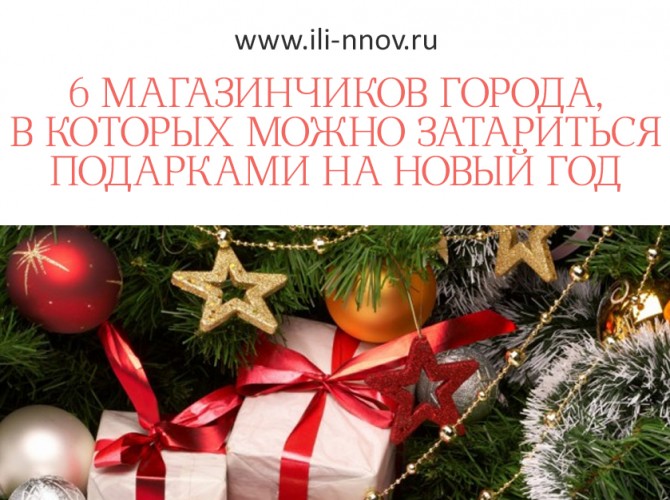

комментарии